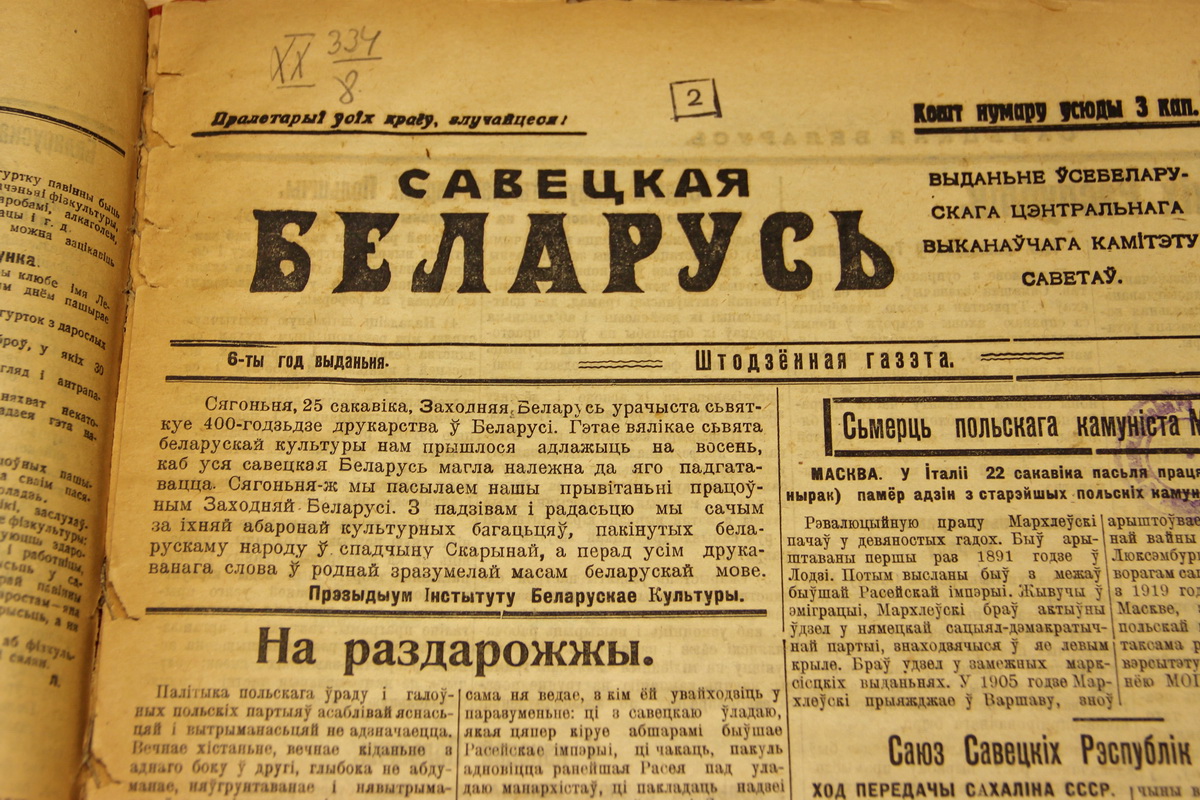
Чаму беларусы сёньнья не размаўляюць на беларускай мове?» Глупый и стереотипный ответ, который дают на этот вопрос змагары, звучит так: «Нас стагодзьдзьямі русіфікавала спачатку Расейская імпэрыя, а пасьля СССР».
Первую часть этой мифологемы опровергнуть очень легко.
1) Когда белорусские земли входили в состав Российской империи в конце XVIII века, ничего «беларускамоўнага» там не было (кроме простого люда, разумеется). Все высшие сферы были тотально полонизированы, за весь XVIII век не напечатано ни одной книги на западнорусском (старобелорусском) языке — уникальный случай в Европе;
2) К концу существования Российской империи, как и при разделах Польши, на белорусском наречии говорило подавляющее большинство белорусов (по переписи 1897 года). Вопреки распространенному заблуждению, никакого запрета на беларускую мову в царской России не существовало.
Так когда же «русифицировали» белорусов при советах? Когда проводили в 1920-1930-х гг. насильственную «белорусизацию», вопреки мнению простых белорусов? А главное кто? Сталин?
Сталин-белорусизатор
Насильственная «белорусизация» началась в бытность Сталина наркомом по делам национальностей в начале 1920-х. В 1930-х она не «была прекращена», а попросту завершилась — нечего было «белорусизировать». Репрессии в отношении «нацыянальнай эліты» (кстати, сплошь коммунистической) не имеют никакого отношения к нашей теме. В 1937-1938 гг. одни коммунисты стреляли других коммунистов под одобрение третьих коммунистов. НКВД расстреливало условного Тодара Кляшторнага, а чекистам рукоплескали Янка Купала и Якуб Колас. На смену кляшторным шли новые беларускамоўныя паэты й пісьменнікі комсомольского призыва, а отнюдь не русскоязычные акулы пера (или как, по мнению сьвядомых, появились быкавы, бураўкіны, барадуліны и прочие гілевічы?). К моменту смерти вождя на мове преподавали в 95% школ, издавали 85% тиража книг, 74% тиража журналов, 71,5% газет. В угоду «белорусизации» полностью задавили образование нацменов. В 1945 году закрыли все литовские школы БССР, к концу 1940-х — все польские, а в 1952 году закрылась последняя украинская школа. Их заменяли белорусские (Маржала Т. Развіццё школьнай адукацыі ў БССР пад улывам партыйна-дзяржаўнай палітыкі 1950-х гг. // ARCHE, №10 (109), 2011. С.130-132).
Никакого курса на «русификацию» не было и близко: белорусскоязычных школ открывалось в 5,5 раз больше, чем русскоязычных (в 1952/53 учебном году — 121 и 22 соответственно; Маржала Т. Развіццё школьнай адукацыі ў БССР… С. 121).
«Но ведь… к концу советского периода русский язык стал доминировать в БССР». Вот. Это правда. Вопрос: как и почему это произошло? Всё просто: если при Ленине и Сталине проводилась директивная и насильственная «белорусизация», то с середины 1950-х годов языковая политика начала либерализироваться. В 1958 году родители получили официально закрепленное право выбирать язык обучения своих детей в школе (до этого им его попросту навязывали).
И когда людям предоставили возможность выбирать самим, советская диктатура мовы по сути рухнула за считанные годы. Белорусский народ сделал выбор в пользу СВОЕГО родного языка — русского (посвободнее вздохнули и национальные меньшинства: в 1957 году по требованию местного населения были открыты 8 школ с преподаванием литовского языка в Вороновском и Островецком районах Гродненской области).
Да, колхозники-нью-горожане не разговаривали на языке Пушкина, они употребляли «трасянку», белорусское наречие русского языка, как на Украине — малороссийское, а в Великороссии — великорусское (донские казаки ведь тоже совсем не на современном великом и могучем гутарили). Но когда переезжали в город, то перед ними вставал выбор: какой литературный язык выбрать? И белорусы выбрали свой, то бишь русский, а не мову (литературный вариант белорусского наречия русского языка, который в 1910-1920- гг. обильно снабдили полонизмами, идишизмами и заскорузлыми диалектизмами в политических целях — чтобы искусственно отдалить от общерусских лингвистических норм).
Как белорусы «русифицировали» школы
Обратимся к фактам. Сразу же после смерти Сталина, когда началась «оттепель» и, одновременно с ней, раскручивались процессы урбанизации, белорусы начали требовать перевода всего и вся на русский язык. Это были не традиционные для тех времён трафаретные «предложения трудящихся», а вполне внятные требования, которые не сказать чтобы сильно радовали власть предержащих.
В июне 1953 года полностью на мове прошел IV пленум ЦК КПБ. Критиковалось то, что высшее образование в БССР преимущественно русскоязычное, отмечались недочёты в работе системы образования. Выступил на пленуме министр просвещения Белорусской ССР Иван Ильюшин: «Няма чаго заплюшчваць вочы на той факт, што ў горадзе Мінску, у абласных цэнтрах і многіх раённых цэнтраху беларусаў (асабліва тых, што знаходзяцца на кіруючых пасадах) ёсць імкненне накіроўваць сваіх дзяцей вучыцца толькі ў рускую школу» (Маржала Т. Развіццё школьнай адукацыі ў БССР… С. 124. Первоисточник: НАРБ. Ф. 4-п, оп. 62, д. 324, л. 93).
Летом 1953 года секретарь Ленинского райкома КПБ г. Минска Л. Фёдорова на отчётно-избирательном партийном собрании в Министерстве связи БССР отмечала: «Сорамна жыць на Беларусі і не выпісваць беларускіх газет. Трэба паважаць Беларускую рэспубліку. Хто не ведае, трэба вывучаць беларускую мову». Но её не поддержали на собрании и один из участников Косов ответил: «Вы неправильно тут выступили и проводите такую политику, которую раньше проводил Зимянин. Вы заставляете выписывать белорусские газеты и изучать белорусский язык — это бериевщина». В продолжение дискуссии Фёдорова назвала в обращении к секретарю ЦК КПБ Горбунову выступление Косова «непартийным» (Мазец В. Тэндэнцыі дзяржаўнай нацыянальнай палітыкі ў БССР у 1950-я гады // ARCHE, №10 (109), 2011. С. 78. Первоисточник: НАРБ. Ф. 4-п, оп. 47, д. 427, л. 118).
Как видим, партийное руководство было не в восторге от «русификаторских» стремлений простыхбелорусов— партийных и беспартийных.
В августе 1955 года уже упомянутый Ильюшин в докладной записке на имя 2-го секретаря ЦК КПБ Николая Авхимовича и главы Совмина БССР Кирилла Мазурова писал, что в Минске из 54-х средних школ на мове учатся только в 8-ми. С каждым годом увеличивается количество русскоязычных, сокращается белорусскоязычных. «Больш за тое, Ільюшын падкрэсліваў, што самі бацькі адпраўляюць сваіх дзяцей менавіта ў рускія школы. У выніку апошнія значна перагружаны, а беларускамоўныя не маюць дастатковага кантынгенту вучняў. У аддзелы народнай адукацыі Мінска паступаюць вусныя і пісьмовыя заявы грамадзян з просьбай аб пераводзе беларускамоўных школ у рускамоўныя, аб адкрыцці рускіх класаў у беларускіх школах. Пры гэтым многія бацькі школьнікаў заявілі, што лічаць сябе беларусамі, але роднай мовай у іх з’яўляецца руская, і дзеля таго яны патрабуюць, каб іх дзеці былі залічаны менавіта ў рускія школы» (Маржала Т. Развіццё школьнай адукацыі ў БССР… С. 126. Первоисточник: Смілавіцкі Л.Л. З гісторыі нацыянальнай беларускай школы // Народная асвета. 1990. №11. С. 79-80).
Обратимся к стенограмме совещания директоров пединститутов, заведующих кафедрами языка и литературы, преподавателей языка и литературы школ города Минска, партийных и советских работников по вопросу обсуждения проекта постановления ЦК КПБ «Аб выкладанні беларускай і рускай мовы і літаратуры ў школе» 5 января 1957 года:
«Нам казалі, што ў нас беларускіх школ вельмі мала ў гарадах, асабліва ў цэнтры буйных гарадоў. Мы ведаем, што бацькі не жадаюць пасылаць дзяцей у гэтыя школы. Прыходзяць і проста бяруць у аблогу загадчыка райана…, каб не пасылаць сваіх дзяцей у беларускія школы, а толькі ў рускія… І неабходна вырашаць так, або каб беларуская мова была сродкам зносін у Беларусі для беларускай нацыі, або не настойваць на прымусовым павелічэнні колькасці беларускіх школ. Тут трэба грунтоўна падумаць…» (Мазец В. Тэндэнцыі дзяржаўнай нацыянальнай палітыкі… С. 71. Первоисточник: НАРБ. Ф. 4-п, оп. 17, д. 181, л. 35).
К стенограмме приложена справка о состоянии преподавания и качества знаний учащихся в школах Гродненской, Могилёвской областей и г. Минска:
«[Нередкими были случаи, когда в белорусские школы направляли учителей, которые] не справіліся з працай у іншых школах. Сярод шматлікіх настаўнікаў беларускіх школ існаваў такі цынічны выраз: «Калі нідзе няма працы, то хоць у беларускай школе працаваць». Агульнае стаўленне да беларускай школы — няўважліва-мэтанакіраванае. Масавай з’явай стаў той факт, што дзеці забяспечаных бацькоў, дзеці кіруючых работнікаў, беларускіх паэтаў і пісьменнікаў, супрацоўнікаў педінстытута і Акадэміі навук, настаўнікаў школ горада (нават беларускіх школ) вучацца ўсе ў рускіх школах, хоць жывуць у мікрараёнах беларускіх школ.Асабліва гэта адносіцца да беларускай школы №23″ (Там же, с. 72. Там же, л. 74).
Директор Славгородской средней (русской) школы Кавалерчик и заведующий Могилёвским облОНО Вдовенко в справке, представленной в Министерство образования БССР, рассказывали о следующих фактах:
«У пачатку навучальнага года бацькі часам самавольна прыводзяць сваіх дзяцей і садзяць за парты ў рускія школы. Яны кажуць пры гэтым: што, няўжо рускія школы створаны для сыноў і дачок адмысловага саслоўя? Чаму нашыя дзеці не могуць займацца ў рускіх школах?» (Там же, с. 72. Там же, лл. 145).
Когда в 1990-м обсуждался закон о языках, секретарь ЦК КПБ по идеологии А.Т. Кузьмин говорил: «В 1958 году в Минске было восемь белорусскоязычных школ. Когда же было введено правило, что родители определяют, на каком языке учить их детей, то мы получили заявления от родителей только четверых первоклассников с просьбой обучать их детей на белорусском языке. И все 8 школ с белорусским языком обучения сразу перешли на русский язык. Если мы сейчас примем такую редакцию, которую предлагает товарищ Петрович [о добровольности выбора языка обучения детей], весь этот закон теряет смысл».
Вдумайтесь! Восемь школ — сколько это первоклассников? Ну, допустим, один 1-й класс — 30 человек и в каждой школе по 3 параллели. Итого 90 первоклашек. Восемь школ — это 720 первоклассников, из них родители 4 (!) подали прошение об обучении на «роднай мове» или 0,5%! А ведь тогда классы были больше, чем сейчас, детей было больше.
Как отмечал лингвист, доктор филологических наук В.М. Алпатов: «Тем самым возникала парадоксальная на первый взгляд ситуация: многие национальные школы держались больше на поддержке сверху, иногда происходившей по инерции, тогда как снизу шло стремление к переходу на обучение на русском языке (не исключавшее изучения материнского языка в качестве предмета)» (Алпатов В.М. 150 языков и политика: 1917—1997. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. М., 1997. С. 100).
Белорусы против «беларускамоўных» книг
В 1950-х годах для широких масс белорусских крестьян, переехавших в города, стал доступен книжный рынок. Начали формироваться семейные библиотеки, которые у многих сохранились до наших дней. Но белорусы не хотели читать книги на «роднай мове», не желали приобретать «беларускамоўныя творы» посредственного качества, предпочитая им шедевры мировой литературы.
Официозная газета «Літаратура і Мастацтва» упрекала Государственное издательство БССР во главе с Захаром Матузовым в слабой заинтересованности в издании книг белорусских писателей. Большая часть бумаги выделялась на выпуск «ходовой» переводной литературы на русском языке, таких книг, как «Кансуэла» Жоржа Санда, «Три мушкетёра» Дюма, «Красное и чёрное» Стендаля, «Ярмарка тщеславия» Теккерея, которые издавались стотысячными тиражами: «Установа, закліканая развіваць і ўзбагачваць нацыянальную літаратуру і культуру, ператвараецца ў камерцыйнае прадпрыемства» (Александровіч С. Запланаваныя прыбыткі і непадлічаныя страты // ЛіМ. 1956. 22 верасня. №39. С. 1).
Тираж белорусских оригинальных изданий снижался. Для прозаичных произведений составлял 5000 экз., для поэтических сборников — 2000 экз. Якуба Коласа «На росстанях» на мове не переиздавали, готовили переиздание на русском. Повесть-сказку Змитрока Бядули «Сярэбраная табакерка» издали в 1950-х гг. на русском 2 раза, 1 раз на литовском и ни одного раза на мове.
В большинстве случаев получалось, что не издательство определяло тираж белорусскоязычной литературы, а руководители книжной торговли «диктовали их издательству», руководствуясь «ганебнай тэорыяй, што беларуская кніга быццам «нехадавая» (Мазец В. Тэндэнцыі дзяржаўнай нацыянальнай палітыкі… С. 76-77).
По данным профессора Романа Мотульского, на пике сталинизма, в 1950 году, тираж книг и брошюр, издаваемых в БССР, на белорусском языке в 6 (!) раз превышал русскоязычный тираж. В 1985 году на заре перестройки ситуация поменялась диаметрально противоположным образом: русскоязычный тираж превышал белорусскоязычный в 10 раз.
Итоги
В результате предоставления людям свободы выбора беларускамоўная адукацыя, беларускамоўны друк и кнігавыдавецтва начали скукоживаться и выживали исключительно благодаря протекции, которая оказывалась партийными органами.
Быстрее всего белорусы ликвидировали беларускамоўнасьць в Западной Беларуси: там школ на мове практически не осталось к началу 1960-х годов (Маржала Т. Развіццё школьнай адукацыі ў БССР… С. 126). Напомню, что на этих территориях не проводилась насильственная советская «белорусизация» 1920-1930-х гг.
Если в 1958/59 учебном году 93,8% школ были белорусскоязычными, 5,8% русскоязычными и 0,4% двуязычными (Мазец В. Тэндэнцыі дзяржаўнай нацыянальнай палітыкі… С. 70. Первоисточник: Народное хозяйство Белорусской ССР. М., 1957. С. 285), то уже в 1970-х ситуация выглядела иначе. В 1972/73 учебном году 98% городских школьников учились в русскоязычных школах.
Оставалась ли возможность у национально-озабоченных родителей давать своим детям образование на «роднай мове»? Безусловно. В январе 2019 года на «Радыё Свабодзе» вышло интересное интервью с единственной минчанкой, получавшей в 1980-х гг. школьное образование на белорусском — Анастасией Лисицыной. Для одного человека в городе с населением 1,5 млн человек обеспечили индивидуальное обучение (хотя могли бы вполне резонно отказать и потребовать собрать хотя бы класс из 20 малышей). Показательно то, что одногодки Анастасии относились к ней как к изгою.
После распада СССР был короткий период, когда власть попыталась вновь навязать белорусам мову по опыту товарища Сталина, то есть насильно. Однако новая «белорусизация» закончилась, не успев толком начаться: президентские выборы 1994 года, референдумы 1995 и 1996 годов расставили все точки над i. Белорусы вновь подтвердили свой выбор в пользу русского языка. Ну, а адепты беларускамоўнай адукацыі и сегодня чувствуют себя, как в лихих 1950-х: брошенными и преданными. В подавляющем большинстве случаев даже полноценный класс собрать не могут для обучения на белорусском (в 535-тысячном Гомеле своих детей хотят обучать на мове 8 человек).
Наши соотечественники должны понять одну простую мысль: им нечего стыдиться того, что они «не размаўляюць на роднай мове». Размаўляюць. И эта мова — русский язык. Каламбур «беларус павінен размаўляць на беларускай мове» совершенно дурацкий и рассчитан на людей с низким IQ. Почему валлоны в Бельгии говорят на французском? Почему австралийцы, американцы, новозеландцы, канадцы говорят на английском? Почему австрийцы говорят на немецком? Почему тайваньцы используют китайский, киприоты греческий, а марокканцы — арабский? Это как-то мешает их суверенитету? Делает их ущербными? Конечно, нет.